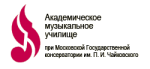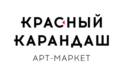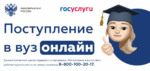Валерий Голубцов: Кто-то из великих сказал: Доброта нуждается в подтверждении, доброта нуждается в доказательствах. Красота нет, не нуждается.
Алексей Кравченко: Видимо, этот человек считал, что красота – это какой-то абсолют. Наверное, я с ним соглашусь потому, что на протяжении многих веков человечество, я надеюсь на это, в едином каком-то пространстве понимает красоту. И мне хотелось бы в это верить в любом случае. А потом, мне кажется, что красота это создание Всевышнего. Его проявление. Проявление всего лучшего, что есть в нашей жизни. Ну, а как художнику цитировать произведения Создателя в своих работах – это и есть, наверное, задача искусства.
Художник цитирует, фотографирует, или, все-таки, может себе позволить что-то от себя, свое видение добавить в эту красоту.
Господь дает нам право не то, что совершенствовать это, но в каком-то разрезе… Нет, наверное – только цитировать.
Творение Божье нуждается в совершенствовании?
Да нет, конечно. Художник должен быть критичен к себе. Себя и свой труд надо и любить и уважать. Но как только возникает крамольная мысль: «Я это делаю лучше, чем Создатель», то вот такая влюбленность в своё искусство становится опасной.
А разве художник – это не самый самолюбивый из всей плеяды творческих людей? Человеческие и журналистские наблюдения не раз утверждали меня в таком мнении.
Нет, ну это качество необходимо для того, чтобы существовать в этой профессии. Обязательно. Здоровые амбиции должны быть.
А себялюбие?
Оно мешает немного. Я считаю, что это чувство, скажем так, разрушающее. Это такая вещь, при которой в тебя легко может вселиться зависть и прочее. Не дай Бог, конечно!
Красота и красивость для Кравченко – это …?
Это разные, очень разные вещи. Красота – это понятие глубокое. Красивость – чувство такое манкое, но поверхностное.
А как Вы относитесь к такому простому критерию оценки художественных произведений, которым чаще всего пользуется неискушённый в терминологии обыватель: «мне нравится, мне не нравится». Кто-то называет это убогим подходом.
Я считаю, что главная оценка такой и должна быть: нравится, не нравится. Тут уже ничего не сделаешь. Другое дело, меня иногда отпугивает то, что люди после этих слов не могут внятно объяснить – почему? Они могут со знанием дела разговаривать о музыке, о литературе. Там они считают себя какими-то специалистами. Сыпят терминологией. А вот понимание – почему нравится живопись, по каким критериям? Люди часто теряются и не могут внятно ничего сказать. Но так должно быть. Потому, что вот ты подходишь к картине и первым делом – она тебе нравится, потому, что там это нарисовано. А потом уже ты задаешься вопросом: как это сделано.
Но, может быть, оставим поиск критериев критикам?
Да, конечно. Но тут есть один важный момент: я считаю себя не только активным художником, но и педагогом. Ко мне приходят абсолютно разные люди, и я иногда радуюсь даже, что они не только совершенствуются в плане рисования, но и в том, что они «образовываются» в понимании пластических форм, пластических решений живописи. Они могут, например, отличить красивый мазок от некрасивого. Это ведь тоже очень важно. Формальная сторона оценки произведения. И я ведь тоже также отношусь к произведениям, когда прихожу в Третьяковку.
Не уловил, где тот самый критерий «красивого» и «некрасивого» мазка. Мне кажется, это так субъективно.
Вот я, например, очень люблю, уважаю и Сурикова и Васнецова. Но я вот честно могу сказать, что мазок Васнецова мне больше нравится, чем «тыканье кистью» Сурикова.
Ну, а «мазок» Пикассо?
Этот художник лежит как бы в другом пространстве и вот тут сравнивать, наверное, нельзя. Всё-таки, такой разрез реалистической живописи – это одно. А то, что Пикассо создал свой стиль, основоположник кубизма, это совершенно другое. Сравнивать нельзя. Это все равно, что ты любишь хоккей, а я водное поло. И я тебе буду говорить, почему в хоккее нет воды?
Я так понимаю, что о «мазке» Малевича мы говорить не будем.
Да нет, конечно. Это полное безобразие. Абсолютное. Я считаю, что он, написав даже «Черный квадрат», технологически даже не смог сделать это грамотно. Он же весь потрескался.
Представляю, сколько гневных эмоций выплеснется на Вас после этих слов.
Знаете, на мой взгляд, всё это непомерно раздуто. Людям же всегда интересно что-нибудь «с анчоусом». Поэтому тут, наверное, от шумихи к интересу, от интереса к шумихе. Всегда найдутся спорщики на эту тему. Это будет вечно.
Совершаем резкий переход от чего-нибудь «с анчоусом» к Вашему приходу в Школу акварели. Художник и художник-педагог – это далеко не синонимы.
Я уже не раз рассказывал эту историю. Прошло уже 14 лет, как я пришел в Школу. Тогда это был такой узкий, ближний круг Сергея Николаевича, которого я знал с 1979 года. Учился в параллельной группе, где он преподавал. Вместе ездили на практику. За много лет до открытия Школы мы знали, что есть такой замечательный художник Сергей Андрияка, которого мы все любили. Я всегда рассказываю своим ученикам, что никогда не видел, как мои педагоги рисуют. Как они это делают. Андрияка же никогда ничего не скрывал: что он делает и как он это делает. Это, конечно, уже тогда была для нас большая ценность.
А разве процесс создания картины, от наброска до огромного полотна – это не тайна художника, в которую до поры нельзя посвящать посторонних? Вот Александр Шилов категорически не дает увидеть портрет даже тому, кого пишет, до самого конца работы. Может быть, и не надо. Людям интересно чаще всего смотреть готовый художественный фильм и не к чему процесс съемки, пересъемки, монтажа и озвучания.
Ну, это формула Леонардо да Винчи, который считал, что творец должен творить в одиночестве, а учиться в коллективе. С этим я абсолютно согласен. Но я думаю, что если ты уже взвалил на себя бремя преподавания, ты несешь ответственность. Преподавание с личным показом – это, наверное, самое самый эффективный и самый быстрый способ.
Мне казалось всегда, что в Школу акварели Вы пришли уже состоявшимся, известным художником. Мог бы жить, писать и наслаждаться творческой свободой. Я не хочу сказать, что педагогика – это каторга. Но тяжкий и, порой, неблагодарный труд. А ведь творческому человеку просто необходима отдача. Зрители, аплодисменты, читатели и почитатели. Разве не так?
На самом деле я с гордостью могу сказать, что я «продукт Школы». Не считаю, что я пришел сложившимся художником. Я попал в благодатную среду, которая мне помогла стать художником. Конечно, в те не простые годы я был в свободном плавании. Свободный рынок, работой на заказ это не назовешь. Помню, я тогда чуть ли не вслух говорил: Господи, как же я завидую людям, у которых есть работы, чтобы сделать персональную выставку. У меня тогда практически ничего не было. А в Школе Сергей Николаевич создал нам потрясающие условия. Ведь для художника очень важно, что у него есть мастерская, где он может работать и складывать свои картины. А потом он в нас культивировал вот эту задачу: не просто преподавать, а быть активным художником, делать самому, экспериментировать. В общем-то, мой фонд экспозиционный складывался долгие годы. Сегодня я уже могу сказать с гордостью, что могу сделать выставку порядка двухсот работ отборных. И многие художники согласятся, что это достижение по нынешним временам.
Получается, что Кравченко, придя в Школу и обучая других, учился сам? Обучая, обучайтесь? У Вас так получалось? Вы чувствовали, что каждый день, «уча других, учишься сам», забыв, что за плечами художественный вуз и прочее?
Конечно, конечно. Потому, что эта система подразумевает, что твой авторитет у тебя за спиной находится. Вот они сидят и смотрят. И тут ты идешь иногда ва-банк. Это был абсолютный эксперимент. И я, и мои коллеги, мы брались иногда за такие вещи, которые никогда раньше не делали. Так это и был прогресс. Мы действительно, обучая, сами учились. Это очень ценный опыт. Преподавание – это такая «вампирская» история. Я всегда это говорю. Потому, что, с одной стороны, ты много отдаешь, но где-то ты и получаешь. Просто ты сам этого не замечаешь. Этот приобретенный опыт, его в одиночку никогда не получишь. То есть да, оценить работу ученика, подсесть к нему, помогая, когда у него на листе абсолютно безвыходная ситуация – это многого стоит. Имея опыт, ты до такого состояния работу свою не доведешь. И перед тобой не стоит вопрос, как выкарабкаться из абсолютно «запоротой» работы. А нам приходилось. Тем более что акварель – дама капризная, она требует постоянного тренажа. Это как в балете. Ты не сможешь так, что не пишешь месяц-другой, а потом у тебя все сразу получится. Эта техника требует постоянной работы. И эта система преподавания в Школе – она ценна именно этим. И вот ещё что: когда я (и мои товарищи тоже) выставляю свои работы, я горжусь тем, (пусть даже узко так возьмем), что у меня есть натурные пейзажные рисунки. Можно спросить у большого мастера пейзажа: а есть ли у него длительные рисунки, сделанные с натуры? Это большая редкость. А тут, имея ввиду наши специфические задачи, приходится это делать. Сам ты себя никогда не заставишь взять карандаш и несколько часов сидеть, кормить комаров и изучать, как устроена крапива.
То, что у ученика может на листе оказаться безвыходная, как Вы сказали, ситуация – это понятно. А у Вас в жизни случалось?
Конечно, конечно. Бывало так, что ты некоторым работам и жизни дальнейшей не даешь. Иногда надо признаться в том, что не пошло, не легло. Эта работа пока для тебя не по силам. Я не считаю, что художник должен работать по принципу: всё, что я написал – свято. То есть я иногда Гоголя понимаю – «взять и отрубить голову» своему произведению.
Вот Вы сами пришли к теме, затронутой мной в беседе с Вашей коллегой Натальей Беседновой. О праве художника «сжечь свой второй том уже написанных «Мертвых душ». Бывали ли в Вашей жизни такие моменты творческого отчаяния или бессилия, когда хотелось в клочья изрезать уже готовое полотно? Если случалось, то имели ли Вы право на это?
Конечно, с возрастом эмоции становятся более вялыми. Нет, это у меня кончалось тем, что я шел в душ и смывал работу. Она исчезала. Да, я считаю, что так должно быть. Ты сам являешься, в определенной степени, судьей. Тут вот… Опять же о самовлюблённости, да? Относиться к этому только так, что это твой бесценный вклад в искусство? Не я сказал, но абсолютно согласен с тем, что «художник должен любить искусство в себе, а не…» Иначе это будет регресс, конечно.
Но разве художник, да любой творческий человек, работая над ролью, создавая картину, фильм, книгу и т.п., не должен думать о том, что «это обязательно будет вклад в искусство»?
Я считаю, что художник должен относиться к каждому листу, к каждому произведению так, как будто это последнее в твоей творческой жизни. Выложиться, отдать всё… Хорошая параллель с актерами — каждый день, умирая Гамлетом, как у него выдерживает сердце, когда такие сильные эмоции? А на самом деле все проще. Будет занавес, будут аплодисменты и цветы, если всё удачно. То есть те эмоции, которые он отдал залу, актер потом получает назад. У нас немного посложнее. Это процесс одиночки. Художник один на один с листом. Отдает свои эмоции. Задаешь себе вопрос: а когда тебе что-нибудь вернется? Я не имею ввиду в материальном отношении. Да, если работа продается, она находит свою жизнь. Это хорошо. Поэтому я считаю необходимым делать свои выставки. А эмоциональные, порой несвязные, не «квалифицированные» комплименты со стороны зрителей – они для художника очень важны. Они нужны, потому, что мы, таким образом, понимаем, что это кому-то нужно и эти твои эмоции просто возвращаются.
Сегодня от художников часто можно услышать, что вот «канули в лету» Третьяковы и Стасовы. Нет или почти нет знающих, образованных, тонких ценителей и критиков. Вот лично для Вас есть сегодня профессиональные критики или знатоки живописи, к мнению которых Вы бы прислушались?
Соглашусь, что сегодня культура критики куда-то «отошла». Сожалею об этом. Когда были такие рупоры, идеологи искусства как Стасов, как Рёскин*. Когда люди могли со знанием дела, высокопрофессионально объяснить, почему возникло то или иное направление, куда мы двигаемся, как развиваемся. В Школе и в Академии мы, наверное, не очень сильно страдаем от этого, потому, что наша система обучения и существования — это уже, своего рода, самостоятельное явление. Кому-то это нравится, кому-то нет, Но под этим крылом объединились художники одного вектора в искусстве. И, наверное, да, мы ещё не сложили это в какую-то ясную теорию. Но как о «школе» об этом явлении уже можно говорить.
Вернемся к критикам. В театральной среде иногда «с любовью» говорят, что в критики идут неудавшиеся актеры и режиссеры. Не признали как писателя, «отомщу всем, пойду в литературные критики». Как Вы считаете, художественная критика сегодня жизнеспособна, она нужна лично Вам, например?
Нужна, очень нужна. Знаете, я вот часто думал: если человек очень умно делает картины, они у него содержательны, то он, наверное, так же и говорит. А бывает, что художник и знаменитый и умный, но большой молчун по жизни. Не может объяснить, этого дара ему не хватает. И какой-то проводник должен быть обязательно. Я считаю, что критики — это такой небольшой мосток от художника к зрителю. А вообще-то, я вдруг сейчас подумал, я бы и цензуру ввёл. Мне сегодня очень многое активно не нравится. Я не считаю, что банки с фекалиями можно выставлять. Но у нас же сегодня это чуть ли не норма. Инсталляции, черт возьми! Свобода должна быть, но не в таком выражении.
Многие сегодня, рассуждая о судьбах российского искусства и его творцах, о цензуре, совершенно справедливо, на мой взгляд, говорят о само цензуре, о цензуре в душе, в мозгах.
Я, всё-таки, думаю, что искусство ценно, когда оно адресовано. Я стою на таких позициях. То есть мы в любом случае должны отдавать себе отчет, для кого и для чего ты это делаешь. Если ты это делаешь для себя, просто тебе это интересно, а это, как правило, так и бывает, то этого недостаточно. Я за адресованное искусство, адресованное человеку.
Но люди такие разные…
Так от этого и интересно. Потому, что я ведь тоже собираю не только лестные отзывы о моих работах. Бывает, что люди говорят и неприятные вещи. Помню, как мне однажды без тени улыбки сказали: У Вас всё так хорошо, что даже противно.
Наверное, это были критики. Искренне надеюсь, что не обижу Вас, но приведу мнение одной дамы от живописи, которая увидев Вашу картину «Портрет бабушки», сказала, что, мол, не дело художника «срисовывать и раскрашивать» фотографию.
Я с эти не согласен потому, что я и заявлял эти две работы как мемориальные портреты. Эти близкие мне люди ушли давно, когда мне было лет тринадцать. И мне захотелось их написать. Я к этому отношусь как к истории нашей страны. Смотрю на эти лица – они другие, не такие, как я вижу сейчас. А что может быть достойнее, чем рассказать тому же молодому поколению, какими они были, наши родители, бабушки и дедушки. Да, мы смотрим старые фильмы и понимаем, что те герои, которые были тогда – они уже с другими лицами, у нас их нет таких. А это очень важно потому, что художник должен быть еще и в каком-то эмоциональном и историческом пространстве.
Я с Вами абсолютно согласен. Но могут сказать: А зачем перерисовывать фотографии? Их можно отсканировать, реставрировать, оцифровать.
Да нет, нет! Тут, какая бы высокая технология не существовала, она в другой плоскости лежит. Художник, который постоянно работает с натурой как я, беря фотографию, не копирует её полностью. Я знаю и умею сделать отбор. А это очень важно. Как сделать отбор, а не срисовать. Я прекрасно знаю, что есть дилетанты, которые иногда скопируют лучше, чем я. Это, знаете, какой-то китайский подход. Хорошо помню, как ещё в «суриковские» годы у нас учились студенты из Китая. Они скрупулёзно, тщательно работали. Это какая-то природная данность, когда он сидит и делает точную копию того, что видит. Там нет образа, там нет своего отношения. Там есть абсолютно точный репортаж данной ситуации.
А копиисты великих мастеров нужны?
Нужны. Просто в нашей области бывают такие тонкие моменты, когда хорошая копия служит популяризации великой вещи, дает ей вторую жизнь. Я ничего не имею против этого.
Зачем же копировать художника, если не с целью выдать копию за оригинал? Ведь сегодня есть великолепная техника, которая позволяет сканировать, репродуцировать, копировать великие и не очень произведения. То, например, что сегодня называют арт-постером.
Всё так. Но как мне сказал один пивовар: есть ли разница в том, в какую сторону крутить барабан? Пиво оно и есть пиво. Ан нет! У кого какие руки. У одного компьютер будет работать как инструмент творчества, а у другого как бездушный копир. Поэтому я думаю, что эти изобретения, и камера обскура и использование фотографии такими великими мастерами, как Верещагин или Репин, всеми прерафаэлитами**, это данность прогресса. От этого ни куда не денешься, это прочно вошло в нашу жизнь. И сегодня многие используют фотографию. Другое дело, как её использовать? Если «просто в лоб», то этого не скроешь. А если как инструмент, это можно.
Есть такой жанр как «фотопортрет». И есть большие мастера этого творческого жанра. А недавно я увидел рекламу «Популярным украшением интерьера в последние годы стала печать на холсте. Фактурный материал преобразит любимый фотопортрет, оживит старую семейную фотографию». Так может быть живописный портрет уходит, становится возможностью лишь богатого заказчика?
Портрет… Тут такая история. Я часто повторяю своим ученикам высказывание Леонардо да Винчи: «Художник должен уметь рисовать две вещи. Человека и представление о его душе». Лучше не скажешь. Поэтому так важно глубинное, содержательное отношение к портрету. Такое, как у Тициана, у Репина, как у Николая Ге и у Павла Корина. Есть какие-то форпосты незыблемые. Всегда будет сравнение. Это как детский спор — кто сильнее лев или тигр?
А кто сказал, что эти «форпосты» незыблемы? Только потому, что им уже 200-300 лет?
В общем-то, да. Время как бы отшлифовало все, сделало отбор. И я же сам понимаю — и как я рисую, и как мои коллеги рисуют. Мы уже так сделать не можем. Мы уже другого внутреннего содержания люди. Не потому, что мы так не умеем, мы так просто не должны уже это делать. И это не искусственное ограничение, это очень органично. Другой мир, другие соблазны. Другое время, другое понимание времени. Ты попытаешься так делать, а это будет неестественно, фальшиво. Это высота такая, да. Вот чему надо завидовать. Как там у Вознесенского: «Любить — это с простынь, Бессонницей рваных, Срываться, ревнуя к Копернику, Его, a не мужа Марьи Иванны, Считая своим соперником».
Вот к чему надо стремиться и чему завидовать. Часто говорят, что в России двигатель прогресса – это зависть. Мы начали разговор с того, что человек должен быть самолюбивым, должны быть здоровые амбиции, да. Но зависть должна быть направлена в правильном разрезе. В созидательном, что ли. Не завидовать своему коллеге в том, что он лучше продается или к нему больше людей приходит на выставку. Я, например, прихожу в Третьяковскую галерею и безумно завидую Илье Ефимовичу Репину. Боже мой, он прожил, конечно, долгую жизнь, у него отсохла правая рука, он начал писать левой. Но какое же наследие он оставил! Где он нашел столько времени, чтобы всё это сделать. Каждый музей в России имеет его хорошие произведения. То есть вот этому хочется завидовать.
У Вас есть современные любимые художники? И вообще, у художника может быть кто-нибудь «любимым», кроме него самого?
Конечно, у меня есть любимые художники, которые на протяжении всей моей профессиональной деятельности всегда были моими поводырями. Я безо всякой лести и без вранья могу сказать, что Сергей Николаевич Андрияка – это явление нашего современного искусства, основоположник определенной школы, что многие вещи, написанные им – это вклад в мировую живопись и где-то он первопроходец. Наш мир, таких вот «правых» художников, он не большой. В итоге оказывается, что ты пересекаешься со многими людьми. Вот пришло приглашение на выставку Дмитрия Белюкина. Я люблю его как художника. Мне нравится то, что он хочет мне рассказать. Я прихожу на его выставку и мне любопытно, мне приятно, мне интересно там быть. Потому, что возникает диалог. А это самое важное. То есть я говорил об «адресованности» искусства: те же Андрияка и Белюкин, их работы, я считаю, они адресованы мне. И мне интересно. И так должно быть. Я также считаю, что мои коллеги по Школе, а теперь и по Академии – это мое художественное пространство. Я где-то с ними согласен, а они где-то со мной не согласны, но это мое художественное пространство. Мы выставляемся на одних выставках, мы показываем порой незаконченные работы, советуем друг другу что-то, мы говорим об удачах и неудачах, мы вместе участвуем в какой-то такой важной для нас в настоящий момент жизнедеятельности. Они для меня ценны. Это Алексей Попов и Наталья Беседнова, Ольга Волокитина и Татьяна Чумакова-Кузнецова. Это мое художественное пространство.
Это мир Школы и Академии. Но ведь, на мой взгляд, читающий человек интересуется не только отечественной литературой, но и переводной. Можете назвать кого-то в мире, кто Вам сегодня интересен. Ну, скажем так: на выставку какого представителя «современного искусства» Вы готовы отстоять огромную очередь, чтобы на неё попасть?
Вот Вы задали мне вопрос, и я на мгновение «в лужу сел». Например, на художников, которые выставляются в «Винзаводе», я не хожу. Иносказательно говоря, мы разными видами спорта занимаемся. Серьезно, не могу сказать. Мне привозят часто художественные журналы по американской современной живописи. Я смотрю. Что-то любопытно, что-то совсем не интересно. Со многим я просто не согласен. Имен не запоминаю. Не отложилось, честное слово. Не скажу. А вот то, что я сказал про людей совсем близкого круга, это да. Я, конечно, со многими художниками поддерживаю отношения. Не случайно говорят, что если человек в 11 лет начал заниматься этим делом, он, по-хорошему, отравлен. Вот, например, круг моих одноклассников. Это замечательные люди, добившиеся больших успехов. Я хожу на выставки и Василия Нестеренко и Бориса Ведерникова, и Игоря Машкова. Это достойные люди, которые закончили Суриковский институт, являются членами многих союзов, заслуженные и народные, члены-корреспонденты. Наш мир узок. Мы в любом случае пересекаемся. А вот то, что Вы подчеркиваете — современное искусство… Имеется ввиду, наверное, «левое искусство»? Я только по слухам знаю, что есть там Виноградов и Дубосарский, известные художники. Я признаю их достижения и то, что они являются таким своеобразным рупором нашего современного искусства и что их произведения приобретают лучшие музеи мира. Опять же для меня они идут как-то параллельно, рядом. Но мы разными вещами занимаемся.
Вы стали членом-корреспондентом Российской академии художеств. Это, наверное, и определенный период становления и признание. Ещё совсем недавно раздавались многочисленные призывы упразднить всяких там «заслуженных и народных». Правда, сейчас таких голосов всё меньше и меньше, а новоиспеченных «народных» всё больше и больше. Для Вас важны почетные звания? Ждете ли Вы с нетерпением избрания в действительные члены Академии художеств?
Я, конечно, не буду лукавить. Это приятно. Конечно, это здорово. Читая, например, монографию Игоря Грабаря***, я вижу, что он стал действительным членом Академии художеств СССР в 76 лет, а Народным художником СССР в 85 лет. Я никого ни с кем не сравниваю, но вижу, что сейчас немножко всё подешевело. По правилам и традициям тех лет, мне, сорокапятилетнему художнику сказали бы, что рано. Или вообще ничего не сказали и куда-нибудь послали. Но, действительно, времена и нравы были другими. Многие маститые получала право на организацию своих первых персональных выставок лет в 60. Как я к этому отношусь? Мне понравилось высказывание Аллена Делона, который сказа: «Желания и награды – привилегия старости». Когда я сказал, что «всё подешевело»… Ну, стало моложе, что-ли. Хотя, говорят, что подписан указ и временной разрыв между «заслуженным» и «народным» стал опять в 20 лет, как было раньше. Я, единственное, надеюсь, что это звание меня никак не испортило и я для многих остался тем же самым человеком. Звания в чем-то манок для зрителей, для людей, которые около нас. Это приятно моей маме. Возможно, более представительно выглядит выставка, на афише которой написано: Заслуженный художник, член-корреспондент РАХ. Вместе с тем, я не думаю, что это основные, главные достижения художника. Не очень себе представляю, как пишут: Народный артист Америки Джек Николсон. Сложный вопрос, особенно когда тебе его задают вот так «в лоб». Для кого-то это важно как лычки. Кто-то ёрничает, но обязательно указывает все звания на своей афише. Нет, не буду лукавить – мне это было приятно.
Не скрою, и для меня был приятен и интересен это разговор с замечательным художником Алексеем Кравченко. Продолжение следует.
Валерий Голубцов.
*Ruskin, John, 1819-1900, английский писатель, художественный критик, публицист, теоретик и историк искусства, моралист, художник. В.Г.
**ПРЕРАФАЭЛИ́ТЫ (англ. Pre-Raphaelites, от лат. Prae — «перед, впереди» и Raffaello — имя художника) — объединение английских живописцев и писателей середины XIX в., которые ориентировались на эстетические идеалы Средневековья, интернациональной готики и раннего Итальянского Возрождения периода кватроченто (1400-х гг.) — искусства «до Рафаэля» и других художников «Высокого Возрождения», или римского классицизма начала XVI в. В 1848 г. семь английских юношей, почти мальчиков, в возрасте от девятнадцати до двадцати одного года, решили основать «Братство прерафаэлитов». Первые произведения они выполняли совместно и подписывали: «P. R. B» (сокращ. англ. «Pre-Raphaelite Brotherhood» — «Братство прерафаэлитов»). Инициатором объединения был живописец и поэт Данте Габриэле Россетти (1828—1882), сын итальянского политического эмигранта (родители дали ему имя в честь своего любимого поэта Данте Алигьери). В.Г.
***И́горь Эммануи́лович Граба́рь (25 марта 1871 Будапешт, Австро-Венгрия — 16 мая 1960, Москва, СССР) — русский советский художник-живописец, реставратор, искусствовед, просветитель, музейный деятель, педагог. Народный художник СССР (1956). Лауреат Сталинской премии первой степени (1941). В.Г.